
В октябре 2004 года, после почти семилетнего перерыва, мне удалось, наконец, приехать в родной Якутск и увидать маму. Сразу принялся с увлечением заниматься своими генеалогическими изысканиями: встречаться с родственниками, сканировать старые семейные фотографии и делать записи. Как-то раз мама призналась мне, что она пишет свои воспоминания и показала мне то, что уже сделано - десяток исписанных листов с многочисленными вставками и исправлениями. Я стал уговаривать её продолжить их, но она отнекивалась: нет времени, вот наступит лето, буду сидеть на даче и тогда всё напишу. Я не стал настаивать, а принялся набивать текст на компьютере, разбираясь в написанном и уточняя у мамы неясные места. Мама, видя мой интерес и как хорошо её мемуары получаются в печатном виде, стала понемногу добавлять текст - сначала по полстраницы в день, а потом и вовсе засела в своей комнате...
Через пару недель Филиппу надо было уезжать в Минск к своей второй бабушке. Я договорился с человеком, летевшим в Москву, чтобы он взял его с собой. Филя, как всегда, взволнован предстоящей дорогой, не находит себе места, суетливо собирается... Подошел день отъезда. Прощания, объятия, пожелания доброго пути. И вот Филя уже в дверях... оглядывается на бабушку... и вдруг снова бросается к ней и горячо-горячо обнимает... Видимо, почувствовало маленькое сердце, что видит бабушку в последний раз...
Через два месяца настал и мой черёд уезжать - впереди были встречи с друзьями и родственниками в Новосибирске, Москве, Петербурге, Литве, Минске. В последний день мама вручила мне ещё с десяток листов: "Вот, написала, что могла. В основном всё, разве что вспомню ещё что-то, тогда пришлю почтой...". И я уехал...
Первый инсульт случился в самый разгар проклятых якутских морозов - наверное, сосуды не выдержали резких перепадов давления. Через пару дней мама пошла немного на поправку, появилась надежда, что все обойдётся - и я продолжил поездку, торопясь встретиться со всеми, кого наметил увидеть...
Второй инсульт случился 8 января. Мы с племянницей Катей срочно летим в Якутск, но мама в реанимации, к ней не пускают, да она и не слышит, не разговаривает - кома... 18 января мама умерла...
Мама прожила нелёгкую жизнь. Бедное детство, голодная война, нелёгкая учеба, потом семья с бесконечными проблемами, беспокойная работа учителя, мы - дети, постоянные заботы - о даче, об урожае, о ремонте квартиры, о вечно дефицитных продуктах и одежде… И всё же она была счастливым человеком: она любила своих детей, свою работу, своих учеников и коллег. А как любили её! Наверное, мало у кого в 80 лет бывает столько друзей, как было у нашей мамы - и молодых, и старых… До последних дней сохранила мама увлеченность, любознательность и интерес к жизни.
Из нас, троих её детей, я доставил ей больше всего беспокойства: родился практически калекой - она меня вылечила, и в школе и институте порой запускал учебу - она меня буквально заставила выучиться, да и вообще по жизни постоянно выкидывал какие-нибудь коленца - она терпеливо, с любовью помогала мне. Прости меня, мама и за то, что бывал несправедлив и непослушен, и спасибо тебе за то, что ты для меня сделала…
Твой сын Андрей
Тамара Ивановна Орлова
Воспоминания
Моим внукам
Я родилась 1 февраля 1924 года в районном центре Родниковского района Ивановской области городе Родниках.
Родники в 30-х годах представляли собой небольшой город в окружении берёзовых рощ и ромашковых лугов, почти сплошь деревянный, одноэтажный, состоял из самостоятельных слободок с частными домами, которые были, видимо, когда-то небольшими деревеньками, а с появлением камвольного комбината объединились в город. Большой реки нет, так, маленькие ручейки. Очень отчетливо помню, что в центре города была церковь, 2 каменные школы, кинотеатр, баня, несколько магазинов, один из которых назывался всеми горожанами "Зелёный", потому что все время красился в зелёный цвет. Центральное место в городе занимал комбинат. Он состоял из нескольких фабрик, хлопок в которые поступал издалека (видимо, из Узбекистана), а с комбината выходила уже готовая продукция - разнообразные хлопчатобумажные ткани. Иваново, центр области до сих пор остается известным производителем тканей.
В детстве мы росли как придорожная трава - никто нами особо не интересовался. Я не помню, чтобы устраивались какие-нибудь детские праздники в детском садике, чтобы ставили ёлку в Новый год дома или в школе. Впрочем, в то время новогодняя ёлка была в опале, на неё в течение многих лет были "официальные" гонения, даже на стене террасы у моей подружки Али Перовой был повешен нарисованный ею плакат: "Долой ёлку!" В школе, я помню, были только пионерские сборы и комсомольские собрания, да иногда готовили самодеятельность к вечерам, посвященным революционным датам. В нашей семье не праздновали дни рождения, не дарили друг другу подарков даже на Новый год (первый раз мой день рождения праздновался в 1946 году уже в семье мужа в Якутске). У нас очень редко были гости, не собирались друзья или родственники, а когда и собирались (чаще всего у бабы Веры), то обязательно пели "Шумел камыш, деревья гнулись…"…
Мой отец, Иван Васильевич Орлов, умер от туберкулёза лёгких и почек 30 лет отроду. Кем он был по профессии, я не знаю, т.к. он умер, когда мне было 6 лет (в 1930 году), но знаю со слов матери, что он работал на камвольном комбинате, на котором трудилось почти все взрослое население нашего города. В семье отец почти не жил, т.к. постоянно или лежал в туббольнице или лечился на южных курортах.
 |
| Я с мамой. 1930 год |
Напишу немного, что помню и что знаю со слов матери о родителях матери и отца.
Дед по отцу Василий Орлов (отчества не знаю) прожил до старости и умер в войну. Это был мощный, своенравный старик, который держал в страхе всех своих близких. Грубый, бесцеремонный, матершинник, он плохо относился не только к невестке, но и к своим: жене и сыновьям. Я не помню, чтобы он меня когда-нибудь приласкал или сказал доброе слово. Называл он меня Самарой (а маму - Надежной). Кем он был в молодости, я не знаю. Мама моя, когда они поженились с отцом и жили в семье отца, много натерпелась от деда и, когда умер отец, она порвала с их семьёй всякую связь. Я знаю, что у него было 5 человек детей (4 сына и дочь). Больше всего я помню дядю Алексея, младшего брата отца, который жил вместе с родителями и после женитьбы. Он тоже работал на комбинате. Я не могу вспомнить каких-нибудь эпизодов, связанных с ним. Мама рассказывала, что дед был очень жаден. Когда бабушка Катерина отправлялась в церковь, то он выдавал ей, всегда с оговорками и попрёками, несколько копеек, но никак не более пяти, на свечки. Бабушка была истинно верующей (чего не скажешь о дедушке) и всегда переживала, что не может поставить свечи за упокой или здравие своих близких. Бабушка Катя всегда брала меня в церковь и настояла на моем крещении.
Дед был любитель выпить и покуражиться. Мама моя была большая чистюля, не терпела грязных полов. Так дед, когда приходил домой, специально шел в грязных сапогах по свежевымытому полу, чем приводил свою сноху в полное отчаяние. Мать вспоминала, что когда он возвращался домой пьяным, то на весь переулок (они жили в своем доме в пригороде Родников) ругал своих близких: "Мой Иван - дурак. Женился на Надежне. Чё он в ней нашел - ни жопы, ни титек! Только и знает полы мыть, дом гноить…". Не нравилось деду и то, что сноха не принесла в дом большого приданого. В войну жилось им с бабушкой очень голодно. Чувствуя себя постоянно голодными, чтобы заглушить чувство голода, дед часто пил соленую воду, что привело к какой-то болезни (скорее всего к ослаблению всего организма), и он умер в 1942 году.
Бабушка Катерина Алексеевна была тихая, затюканная дедом женщина, не имевшая в доме никакого голоса. Отваживалась она противиться мужу только тогда, когда он ополчался на мою маму и меня. Мама очень её уважала и жалела. Бабушка меня очень любила и тоже жалела. Мой отец был её любимым сыном, и когда мог, выступал на её защиту. Перед смертью он завещал похоронить его так, как решит его мать. Поэтому отца отпевали, хотя моей маме, возможно, хотелось похоронить его по-светски, как в то время было принято. Бабушка очень тяжело переживала смерть своего сына. Я часто к ней приходила, когда немного подросла. Для меня у неё всегда был гостинец - пряник, конфета или яблоко. После смерти мужа ей не стало жить лучше. Сын Алексей привел в дом жену, женщину, которая с бабушкой совсем не считалась. Когда бабушка слегла, за ней не было никакого ухода. Когда я приехала на каникулы из Горького и навестила её, то застала её в постели. Она так ослабла, что уже не вставала. А по ней и постели ползали вши. Их было так много, что никто уже и не пытался с ними бороться, просто оставили её им на съедение. До сих пор это одно из самых тяжелых воспоминаний моей юности, без слез не могу об этом писать. Она не позволила подойти к ней близко, не допустила себя поцеловать. От какой-либо моей помощи отказалась, сказав, что ничем сейчас уже помочь нельзя. А перед моим уходом велела мне взять с окна мешочек, который она припасла для меня. В нем оказались сухари, которые она откладывала для меня от своего и без того скудного пайка. Умерла она в этом же году. Милая бабушка, прости меня, что я ничем не смогла отплатить тебе за любовь и доброту и даже, будучи несмышленой, иногда огорчала тебя…
Когда я поступила в первый класс, в обществе была модной противоцерковная пропаганда. Нам говорили, что Бога нет и что мы должны своим родителям, бабушкам и дедушкам объяснять это. И вот, приходя к бабушке в гости, я с порога заявляла: "Бабушка, ты не молись, бога нет!" Она меня не ругала, только сокрушалась, что безбожью нас учат в школе и жалела меня. Навестить нас она приходила редко, т.к. дед был против этого, да и мама не высказывала при её появлении особой радости. Я же всегда была довольна её приходу. Несмотря на то, что мама не навещала их совсем, ходить к бабушке Кате она мне не запрещала. Спасибо ей за это.
Теперь о семье матери. Мама мне о ней рассказывала часто. Вот что я поняла и запомнила.
Отец её Фёдор Соколов был то ли мастером на комбинате, то ли каким-то небольшим чиновником. Мама всегда подчеркивала его несколько привилегированное положение. Был он большим шутником, способным на озорные поступки. Бабушка это не очень одобряла. По характеру она была полной противоположностью своему мужу. Время от времени их навещали сестры бабушки, которые жили как в Родниках (Лиза и Инна), так и в других городах (Толя [Анатолия?]). Я знаю только трёх, но возможно, их было больше. Все они, как и бабушка Вера были красавицами. Дедушку они воодушевляли на комплименты, разнообразные шутки, что вызывало досаду, а, возможно, и ревность, у бабушки.
Из сестер бабушки я смутно помню тётю Лизу, она тоже жила в пригороде Родников, и я несколько раз у неё была, видимо с бабушкой. Помню, что она была очень приветливой и очень толстой, хотя это не лишало её привлекательности.
С младшей сестрой бабушки, Инной Федоровной Соболевой, я была хорошо знакома, т.к. их семья жила с нашей по соседству. Это была очень красивая женщина, но всегда с кислым выражением лица, все время была чем-то озабочена и всем недовольна. Мама её не любила и была недовольна, когда она нас посещала, т.к. та всегда жаловалась на жизнь, на мужа, на детей. Муж её Александр Соболев был неплохой человек, любил родню жены и был с ними дружен. Была у него одна особенность: он говорил так быстро, что его скороговорку мало кто мог понять. Бабушка Вера, например, только кивала головой на его речи, да приговаривала: да, да… естественно, по большей части невпопад. Характер у Инны Федоровны был тяжелым для окружающих. Мало того, что она была вечно всем недовольна, она была ещё, видимо, упрямой. Так, поссорившись с мужем, она могла с ним не разговаривать месяцами, чем приводила его, любящего поговорить, в полное отчаяние. У Соболевых было 3 детей: Римма (моложе меня на год), Володя и Саша. Римма была ослепительно красива уже в детстве. После войны она переехала вместе с родителями в Черновцы, где работала учительницей. Личная жизнь её не сложилась, она жила с родителями и сыном. Владимир стал военным и как-то в 70-х годах два раза приезжал по делам в Якутск, будучи в чине подполковника. Он разыскал меня в Якутске и рассказывал нам о родственниках по матери и о своей семье. Несколько лет после этого мы обменивались в основном поздравительными открытками, но после 2002 года он перестал отвечать. Не знаю даже, что с ним случилось. Вообще он пил, оставил семью…
О Саше, третьем сыне Соболевых, я ничего не знаю.
 |
| Бабушка Вера Федоровна |
У них было трое детей: Рита, которая закончила кулинарный техникум, уехала работать в Сыктывкар, где вышла замуж за военного, жили они очень хорошо, но муж внезапно скончался после переезда их в Ленинград. Я была у них в гостях два раза (один раз с Андреем), несколько лет переписывалась, затем переписка оборвалась, так что я не знаю, как живет Рита и её семья. Она немного меня моложе. Братья Риты, Володя и Борис, умерли рано. Борис даже, кажется, трагически.
Её сестра Юля по характеру была полной противоположностью тёте Марии - капризная, желчная, завистливая. Не любила мою маму. Её раздражало, что мама всегда стремилась выглядеть красивой и нарядной, хотя возможностей для этого у той было не больше, чем у Юли. Муж её умер во время войны от заворота кишок, оставив её с тремя маленькими дочерьми. Через несколько лет её старшая дочь Лида, еще молодая, умерла в одночасье от разрыва сердца (инфаркта). Мама послала Юле соболезнование, через некоторое время та ответила очень грубым и злым письмом, как будто мама была в чем-то виновата. Так связь между ними оборвалась. О судьбе других я ничего не знаю, кроме того, что они выросли, вышли замуж и уехали из Родников.
Тётя Таисия была самой младшей из сестёр. Она работала акушеркой в роддоме, где и познакомилась со своим будущим мужем. (А до замужества она тяжело пережила разрыв с любимым ею человеком.) Вениамин Булатов был главным инженером комбината. Его жена родила двойню и умерла в роддоме. Там близнецы находились какое-то время и тоже умерли. Их отец, видимо, приходил их навещать. Там он и присмотрел нашу Тасю и сделал ей предложение. У него была от первого брака дочь Вера 10 лет. Я не знаю, были ли у Таси какие-нибудь чувства к будущему мужу, может быть, она уже не ждала более ничего для себя. А вот бабушке Вере это сватовство очень льстило, ведь Булатов был большим человеком на комбинате, а следовательно, и в городе. Жили они в маленькой квартирке, со временем (когда Булатов был отправлен на фронт) туда перебралась и бабушка Вера. Булатов мне очень не нравился. Тася меня любила и жалела, зная, что я все время голодная (в это время я работала после окончания школы на комбинате, но об этом позднее). Она все время звала меня к себе и старалась накормить и что-нибудь сунуть с собой. Не знаю, как относился к этому её муж, но чувствовала я себя в их доме неуютно. Комната была очень маленькой (наверное, у них была ещё одна), а Булатов постоянно обнимал, прижимал к себе и целовал (как-то неприятно - часто-часто) Тасю. Ей было неловко, мне тоже, и я спешила скорей уйти. Моя неприязнь к нему полностью оправдалась. После войны он год или два служил в Германии и оттуда посылал посылки, строго-настрого наказав, чтобы Тася ничего не раздавала родне. Там были женские чулки, мыло и ещё много чего. Тася не знала, что с этим всем делать: пользоваться этим она не могла, несколько раз их пытались обокрасть. Возможно, на этой почве она и тронулась умом. Вначале это проявлялось кратковременно, но когда вернулся муж и выставил ее из дома (он нашел себе другую женщину), то болезнь быстро начала прогрессировать. В 1954 году, когда мы с Виктором были в Родниках у мамы в гостях, Тася приходила к нам. Она часами лежала на постели, ничего не говорила, внезапно уходила. А иногда была очень возбуждена и озлоблена. Мне она сказала: "Тамарка, я ведь сумасшедшая". Муж женился на той другой женщине, дочери Вере запретил навещать её (а она любила Тасю). Жила Тася в крохотной комнатке вместе с бабой Верой в поселке, где жила и моя мама с дочерью Соней. Моя мама пыталась взывать к совести Булатова, пыталась найти какую-то справедливость, ходила к директору комбината, ездила даже в областной город Иваново, но все кончилось только тем, что его, кажется, понизили в должности. Тасе это ничего не дало. Кончилось это тем, что Тася повесилась в кладовке. Бабушке Вере сказали, что её увезли на лечение в Иваново, но она, говорят, чувствовала, что от неё что-то скрывают. Сама бабушка к этому времени давно уже не вставала с постели. Комната была настолько маленькая, что на своей постели она не могла вытянуть ноги, поэтому, когда умерла, ноги её в гробу пришлось выпрямлять силой.
Брат Коля учился в железнодорожном институте в Петрозаводске. В 41-м году он приехал на каникулы, но побыл совсем недолго, как началась война. Он сразу уехал в Петрозаводск, и больше мы о нем ничего не слышали. Бабушка пыталась его разыскивать, но никто не отозвался, куда бы она ни обращалась. Я мало помню дядю Колю, помню только, что он дружил с Виктором - соседским мальчиком (его маленького случайно уронили с печки его старшие сестры и их подружки, в том числе моя мама и скрыли это от его матери, а у него начал из-за этого расти горб). Помню, что однажды Коля приехал на каникулы (думаю, что у него был бесплатный билет), а у него подошва была привязана к башмаку бечевкой. Моей маме хотелось, чтобы у меня были косички, поэтому она заплетала мне волосы в крысиные хвостики, а дядя Коля возмущался этим, расплетал их и показывал всем, что у меня хоть и негустые, но красивые кудрявые волосы.
Мама часто рассказывала мне о своем детстве, о подружках, об их детских шалостях, не всегда безобидных. Так однажды они с друзьями увидели лежащего на проезжей дороге пьяного. Они насыпали ему в рот пыли, а потом убежали и забыли. Вообще они много проказничали, а когда бабушка Вера пыталась их наказать, они все залезали под широкую кровать, из-под которой бабушка пыталась их достать половой щеткой.
Бабушка Вера жила в Кулёшево, довольно далеко от центра. Это была самая настоящая деревня, с небольшими усадьбами. Очень хорошо помню дорогу в Кулёшево, куда я очень часто ходила пешком, когда подросла. Дом бабушки был довольно большим и красивым: с резными наличниками, высоким нарядным крыльцом. Кроме половины, которая отапливалась, в доме были холодные сени и довольно вместительная терраса. Помню даже расположение комнат в доме, т.к. бывала там очень часто. На участке вокруг дома был огород и сад, где росла смородина - черная, красная и белая. Особенно я любила белую - самую сладкую. В войну бабушка убрала забор сада, т.к. за смородиной все время лазили мальчишки, да, видимо, и не только они, так что толку от него уже не было. В примыкавшем к дому сарае бабушка держала корову, был сеновал, куда мы с подружками иногда забирались и играли, но это строго-настрого запрещалось бабушкой.
Дом родителей отца находился недалеко от бабушки Веры. Я туда ходила даже еще когда не училась в школе. Дом выходил фасадом на улицу, перед окном росла яблоня с небольшими кислыми плодами. Но даже эти яблоки нам не разрешалось срывать. Этот дом тоже имел холодную и теплую половину. Летом, как смутно помню, отец лежал в холодной половине. Был у них и огород, но я не помню, чтобы я туда когда-нибудь допускалась. Вообще, если в Кулёшеве у меня были подружки, с которыми мы играли, то к деду и бабушке Орловым я приходила, видимо, ненадолго.
Мама с отцом прожили в семье деда несколько лет, а потом им дали квартиру от комбината в рабочем поселке на окраине города. Этот поселок был выстроен комбинатом и состоял из двухэтажных добротно сработанных домов. Были и трёхэтажные - первый этаж из кирпича, а два верхних - из дерева. Квартиры просторные, но, конечно, без удобств. Наша квартира была на втором этаже, двухкомнатная, но большая, а всего в доме 4 квартиры. Рисую её план, как помню (масштаб, конечно, не выдержан, только пыталась передать расположение).
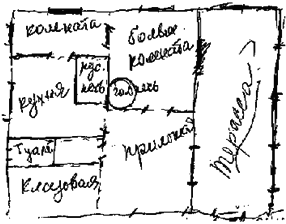 В кухне большая русская печь с лежанкой - она отапливала, кроме кухни, еще одну комнату, другая комната отапливалась отдельно - топка выходила в коридор, а в комнате кирпичи покрыты белыми изразцами. Мебели мало: кровати, стол, старый канцелярский диван, обитый черным дерматином с полосками на спинке. Зеркало с небольшим столиком перед ним и "горка" - шкаф, в верхней части которого парадная посуда, а в нижней части - постельное и нательное бельё.
В кухне большая русская печь с лежанкой - она отапливала, кроме кухни, еще одну комнату, другая комната отапливалась отдельно - топка выходила в коридор, а в комнате кирпичи покрыты белыми изразцами. Мебели мало: кровати, стол, старый канцелярский диван, обитый черным дерматином с полосками на спинке. Зеркало с небольшим столиком перед ним и "горка" - шкаф, в верхней части которого парадная посуда, а в нижней части - постельное и нательное бельё.
В большой комнате росли в кадках огромные, как деревья, китайская роза и фикус. Кругом чистота. Рваный диван покрыт белой простыней. Садиться на него не полагалось. Помню, пришел ко мне в гости Боря Комаров (умер рано от туберкулёза лёгких), что-то мы выполняли из школьных заданий. И вот он, не подозревая о том, что девственность сей простыни никоим образом нарушать не положено, уселся на диван и, конечно, сбил её в комок. И тут пришла мама, заглянула в комнату, обнаружила непорядок и как-то по-особенному хлопнула дверью. Не помню, попало ли мне и как именно, но помню ужас, который я испытала, но в то же время не могла сделать замечание Боре, хотя он был человек с юмором, и можно было все свести к шутке.
Между террасами и квартирами маленький и большой коридоры, где мы играли, а летом устраивали постели и ночевали. Всю ночь рассказывали сказки и пугали друг друга страшными историями.
Но жить моему отцу в этой квартире долго не пришлось. Через 1-2 года туберкулёз лёгких сделал его нетрудоспособным, процесс захватил и почки. Отец подолгу лечился в клиниках Иванова, в Крыму, и домой приехал фактически умирать. Мне в это время шел шестой год. Я помню его лежащим в постели в большой комнате, где у нас росли роза и фикус. Врачи предупреждали маму, что ночью столь большие цветы поглощают слишком много кислорода, советовали убрать их. Но отец не захотел лишить себя этой последней радости. Я смутно помню его последние дни, в памяти сохранились только несколько отрывочных воспоминаний, например: отец лежит, перед ним на стуле какие-то продукты, в числе их надкусанная шоколадная конфета. Мне во что бы то ни стало хочется её получить. Отец не разрешает, т.к. он бациллярный больной. Я устраиваю скандал…
А однажды я иду домой, видимо от бабушки, а может быть, просто гуляю недалеко от дома. Навстречу мне идет наша соседка тётя Наталья Иванова, женщина средних лет, семейная, останавливает меня и говорит: "Тамарка (у нас в Родниках было почему-то принято называть друг друга такими, как говорится, полуименами), что же ты гуляешь, беги скорей домой, отец твой умер!" Я что-то понимаю и ощущаю страх. Бегу. Запыхавшись, вбегаю в комнату, где лежит отец. Он смотрит на меня, пытается улыбнуться. Я громко плачу от страха и, видимо, смутно ощущаю, насколько подло поступила соседка.
 |
| Мой отец Иван Васильевич Орлов в санатории в Алупке (Крым) |
Родители мои поженились по любви, и мама знала о болезни отца. Против этого брака была бабушка Вера. Маме тогда было всего 17 лет, но она ничего и слушать не хотела. Любила его, в разлуке ревновала. Я не знала могилы своего отца и не помню, чтобы мы ходили на неё с матерью. Хотя, по её рассказам, в первое время после его смерти это было часто.
Через два года мама снова вышла замуж, и в нашем доме появился мой отчим Николай Александрович Малов, родилась сестра Соня. С мамой ладу у них никогда не было - только бесконечное выяснение отношений. Она была его третьей женой. Жены его, конечно, знали его, как облупленного, и одна из них, с маленьким ребенком, серьёзно предупреждала маму, что он нечестный человек, но мама считала, что это она из ревности. Он несколько раз уходил жить к другим женщинам, у которых было свое хозяйство и потому не так голодно во время войны, потом возвращался, опять уходил уже к другой женщине. Иногда брал с собой Соню. Вообще он был грубый, малообразованный, деревенский и жуликоватый, водился с какими-то темными людьми. Однажды принес маме белье, которое снял с веревки у одной из очередных "жен". Меня он не терпел: "В подоле принесёт…" - на каком основании он делал такие заключения - непонятно. Летом при открытых окнах громким голосом приказывал мне: "Тамарка, иди поставь самовар!" А вот родители его были хорошими стариками.
 |
| В санатории НКПС (Наркомата путей сообщений) в 1926 году. Отец сидит в центре нижнего ряда. |
С 1-й по 4-й класс я училась в школе в поселке (совсем не помню это время), а с 5-го класса я училась в городе. Из этой квартиры я уехала учиться в Горький (ныне Нижний Новгород) в Институт инженеров водного транспорта (ГИИВТ) на эксплоатационный факультет, абсолютно не представляя характер своей будущей специальности. Напишу о своем детстве и юности, прошедшей в родном городе.
Город Родники, как я уже писала, был районным центром. Небольшой, почти весь деревянный. (В 1998 году я получила открытку от Августы Щербаковой, она тоже из Родников, мы с ней учились вместе в Горьком, она получила распределение в Пермь, где прожила всю жизнь и недавно умерла. Она побывала в Родниках у брата, писала, что поселок совершенно изменился: нет деревянных домов, стоят высокие каменные. Я просила написать подробнее о жизни города, но она уже не ответила.) Наш поселок стоял на окраине, машин тогда не было, так что в школу приходилось ходить пешком довольно далеко. А некоторые ученики из моего класса жили в близлежащих деревнях и квартировали в городе.
 |
| Аля Перова. 1948 г. |
В детстве мы любили играть в куклы. Играли и уже будучи восьмиклассницами. Наши сверстники-парни уже ходили на танцы в горсад, а мы, расположившись на лужайке, играли "в дом". Парни над нами посмеивались. Настоящие куклы были только у богатых, а у нас были сшитые из тряпок. Только одно время с нами играла девочка, у которой была кукла-пупс из целлулоида, у которой не было лица (девочка сделала его из тряпок), но у этой куклы было много нарядов, и мы очень завидовали этой девочке. Моим детям и внукам сейчас трудно себе это представить, но нам невозможно было найти лоскуток, чтобы сшить одежду для куклы.
Я вспоминаю, как мы перед войной мы месяцами стояли в очереди за тканями. На ладони писали номер, под которым ты числился в очереди, каждую ночь(!) очередь проверялась перекличкой. (Летом это было нам на руку, т.к. мы под этим предлогом допоздна гуляли и ходили на танцы.) И это в городе, где все работали на комбинате, производящем ткани! Но когда, наконец, материю стали продавать, от организованной очереди не осталось и следа - лезли все! Вернее, мужики сразу оттеснили женщин и стали брать двери магазина штурмом. Отчим буквально по головам затащил меня в магазин. В тот день мы принесли домой на двоих 2 метра белого х/б материала и 2 метра черного в розах сатина. Из белого я сшила себе блузку - пришила огромные красные пуговицы - других у нас не было. А из сатина мама сочинила простыню(!). В то время ещё не носили цветастых юбок - они стали модными только через много лет, когда моя дочь Таня училась в старших классах.
Из школьных воспоминаний.
В первых четырех классах я училась в школе в самом поселке, а с пятого стала ходить в школу в Родниках. Как я училась в начальных классах, я помню эпизодически, как и вообще нашу жизнь в поселке в то время. Кто была моя учительница, насколько хорошо я училась - ничего из этого не сохранилось в моей памяти. Училась я, как мне кажется, все-таки довольно посредственно - помню, что убегала иногда гулять, не выполнив домашнего задания по арифметике, а просто подставив в решение первые пришедшие в голову цифры.
Вторая моя школа помещалась в доме бывшей владелицы Красильниковой, которая основала компанию "Красильникова и сыновья", и которые и владели комбинатом. После революции все, разумеется, перешло в руки государства. Достопримечательностью дома была большая гостиная с зеркалами во всю стену. Будучи старшеклассницами, танцуя на вечерах, мы смотрели тайком в эти зеркала. В пятом классе я возненавидела учителя и уроки немецкого языка. А началось все это так: на перемене я вбежала в класс с громким смехом. А там в это время как раз была наша учительница немецкого. Ей это не понравилось, и она заявила, что не допустит меня на свои уроки, пока не придет в школу моя мать. Чего я испугалась, не пойму до сих пор, но маме я об этом не сказала. И учительница не стала особенно на этом настаивать, видимо поняла что просто погорячилась и несправедлива ко мне. Но я с этого дня (а это было самое начало изучения языка) стала какая-то бестолковая и училась по немецкому кое-как на тройки. Это дало о себе знать и в старших классах. Так что когда я поступила учиться в институт, то пошла в английскую группу начинать изучать язык с нуля. Ничего путного из этого не вышло, т.к. остальные студенты уже учили английский в школе, и я сильно от них отставала.
 |
| Школа г. Родников, 10 класс, 1941 г. |
С физикой нам не повезло. Учительница наша была какая-то несобранная, нервозная. Я совсем не помню её уроков. Мне всегда было жалко её, особенно когда один из учеников буквально издевался над ней - брал с её стола небрежно разбросанные ею бумаги и однажды начал читать вслух её заявление в суд на предмет развода с мужем. До сих пор помню, как нам всем стало неудобно и стыдно за соученика.
Учитель химии был большой оригинал. В отличие от других учителей, он откровенно интересовался личной жизнью своих учеников, расспрашивал парней, кто с кем дружит, кто в кого влюблён. В 7-м классе я очень интересовалась химией и училась на пятерки, а когда стала изучать в 8-м классе органическую химию, я как-то не смогла быстро сориентироваться в формулах, и успехи мои были уже куда скромнее.
В младших классах учителем русского языка был у нас Грамматин. Учеников он часто высмеивал. Однажды я пришла на урок в лыжном костюме (в этот день у нас был урок физкультуры - лыжи) и у доски не смогла что-то грамотно написать или ответить. Он посмотрел на меня и сказал что-то резкое о моём "водолазном костюме", который, как выходило, как-то повлиял на мое соображение. Было очень обидно, потому что этот первый в моей жизни костюм был подарен мне тетей Тасей, и я им очень гордилась. В начале войны мы узнали, что Грамматин был арестован как враг народа. Кому-то, видимо, не угодил. Но мы тогда свято верили, что он таковым и являлся.
Несколько слов о нашем учителе естествознании и завуче школы. Она была очень строгой и требовательной, объясняла урок, как будто гвозди заколачивала в голову - там все застревало, и учебник дома можно было не раскрывать. Как завуч она часто посещала уроки других учителей, но через несколько минут начинала дремать и, чтобы не заснуть, держала перед носом ключ от своего кабинета - когда голова ее склонялась, она стукалась лбом о ключ, просыпалась, а через несколько минут все повторялось снова. А мы не уроком были заняты, а наблюдали за этими её попытками не дать себе заснуть.
 |
| г. Родники, 1940 год, перед войной. Многие из этих ребят не вернулись с фронта... |
Не пользовался нашим уважением и учитель рисования - старый пьющий человек, которого держали в школе, видимо, из уважения к его прошлому (он был художник и скульптор), хотя иногда он и на уроки являлся нетрезвым. Ставил как натуру для нас кого-нибудь из мальчишек, а сам делал вид, что читает газету. Но вскоре засыпал, ронял газету. А "натура" в это время чёрти что выделывала у доски, какое уж тут рисование! В классе беготня, шум. Появлялась завуч, будила учителя и уводила его из класса, объясняя нам на ходу, что учитель заболел.
Ну и наконец, директором школы какое-то время у нас был Леонид Аверьянович Пелёвин. Мужчина-красавец, все девчонки были в него влюблены. Вел он историю, и уроки его были очень интересные. Именно под его влиянием я и решила поступать в пединститут на исторический факультет. Он одобрял мой выбор, считая историю одной из важнейших наук. К сожалению, директорствовал он у нас совсем немного и, как член КПСС, был назначен начальником большого госпиталя в городе (а может быть, и кем-нибудь другим, но это было связано с войной). И назначили нам в директора совершенно никчемного человека (особенно в сравнении с Пелёвиным). Его уроки истории я совершенно не помню, ощущение от них было как от чего-то нудного, он, видимо, и сам понимал, как он проигрывает своему предшественнику. Вспоминаю, что неприязнь к нему у меня была так велика, что увидев его идущим навстречу, я быстро переходила на другую сторону, только чтобы не приветствовать его.
Позднее, осмысливая свои школьные годы, я пришла к выводу, что не было тогда в обучении школьников стремления к развитию самостоятельности, творческих способностей. Я не помню каких-либо кружков, конкурсов и т.п. Только пения и драматический.
 |
| Я, Аркаша Филатов (с гитарой), Аля Перова |
Жили мы всегда бедно, а когда настали военные времена, то и вообще нечего было надеть. Шили себе одежду из каких-то тряпок, по каким-то в кои веки выданным талонам материала. А потребность общаться с мальчишками уже появилась. Мы бегали в кино, ходили компаниями по главной улице города, встречались как будто случайно с парнями. А летом как можно чаще ходили на танцы в горсад. Деньги на билеты копили, экономя на питании, и так более чем скромном. А нередко и с риском переломать ноги лазили на танцы через высокий забор. И всё это было не так, как сейчас, а как-то чище, наивнее…
В наше время экзамены были в каждом старшем классе. А после 10-го мы сдавали 12 или 13 экзаменов. Последний был где-то 18-19 июня 1941 года. Выпускной вечер 20 июня. Жили мы очень бедно и на него мне было нечего надеть. Мама отдала мне свое платье, я немного обрезала его и помчалась с опозданием в школу. Но платье было какого-то тонкого, неплотного шелка, скроено по косой нити и к моему ужасу я увидела, что оно вытянулось и с одного боку образовалось что-то вроде хвоста. Меня мальчишки приглашали танцевать, а я стояла и дергала платье по шву, чтобы хоть как-то его выровнять. Но это не удавалось. Вышла в коридор и обрадовалась, когда Борька Комаров пригласил меня погулять. На улице было темно, и я с облегчением вздохнула - мой косой подол не бросался в глаза.
 |
| Лолий Пелевин. 1942 год |
 |
| Борис Комаров |
Через день после выпускного вечера началась война. С утра 22-го июня ничего не предвещало беды. Солнце, тепло, мы с мамой (где была Соня, не помню) пришли в гости к бабушке Вере в Кулёшево и пробыли там несколько часов. Всё там было спокойно, или, по крайней мере, нам так показалось. А когда возвращались домой, город преобразился. У хлебных магазинов тысячные очереди. Народ собрался и у репродукторов - по радио передавали речь Молотова. Все куда-то спешили, растерянные, подавленные. Через несколько дней нас собрали в школе, куда прибыли беженцы из-под Ленинграда. Мы несколько дней с большим энтузиазмом работали: организовывали питание, помогали в уходе за детьми и стариками. Было сознание, что делаем важное, необходимое и доброе дело. Беженцев распределили в основном по близлежащим деревням и частью в городе. К нам на квартиру определили семью из трёх человек: бабушку, Клавдию Модестовну и её дочку Веру десяти лет. Мама была недовольна, ей Клавдия Модестовна сразу не понравилась, т.к. та в первую минуту поставила ее в неудобное положение: в печке у нас варилась в довольно объемном чугунке картошка в мундире, и Клавдия Модестовна, очевидно удивляясь, куда так много картошки, спросила: "Вы что, скотину держите?", на что мама съязвила: "Ага, держим…". Какая уж тут скотина! Весь этот чугунок мы в один присест съедали втроем (мама, Соня и я), а кроме картошки у нас ничего не было - в тот злополучный день, когда мы ушли к бабушке, в доме не оставалось ни куска. Хлеб купить было невозможно - хлебных карточек ещё не было, и тысячные очереди выстраивались у магазинов с ночи. Клавдия Модестовна скоро все испытала на себе, но мама ей так этого эпизода и не простила…
В тот год учиться я не поехала, т.к. маме не на что было меня содержать. Кроме того, все институтские общежития в Иваново были отданы под госпитали, а оплачивать квартиру у нас не было средств. Начались холодные, голодные, бесконечные военные дни…
В Родниках голодно было с первых дней войны. По хлебным карточкам мы с Соней получали как дети по 600 грамм каждая, а мама, как служащая - только 400 грамм. Отчим ушел на фронт добровольцем, когда стало ясно, что скоро его и так заберут. (В конце 41-го - начале 42-го он погиб.) Перед своим уходом в армию он продал все заготовленные на зиму дрова, просто в пику маме, даже не подумав о том, на что оставляет свою дочь. (Сам он любил лес, сам заготавливал дрова, любил и умел собирать грибы.) Так что мы с первых дней холодной зимы сорок первого года должны были ездить в лес за дровами и воровать берёзки, которые нам было под силу срубить. Лес был сразу за поселком, там в мирное время там проводились массовые гулянья, игрались концерты и т.п. За войну лес вокруг Родников свели километров на 50…
Маму ещё осенью отправили на трудовой фронт - копать окопы около Иваново. Была она там больше месяца, а мы с Клавдией Модестовной почти каждый вечер ходили в лес и таскали оттуда тяжелые сырые берёзы, которые в печке никак не хотели гореть. И все по очереди дули на них, а они только тлели и дымили.
Когда вернулась мама, она где-то достала тележку и пилу, стало легче. Но к тому времени лесник стал пресекать воровство леса и стал отбирать у нас тележку. Но потом отдавал, не выдерживая упрёков и слёз женщин (мужья их на фронте, а он здоровый (здоровый ли?), в тылу и издевается над ними…)
Я уже писала, что у нас в большой комнате были роскошные комнатные цветы. Мы были не в состоянии топить еще и голландку и потому закрыли совсем обе комнаты. Мы с Соней спали на полатях, а Клавдия Модестовна с бабушкой и Верой поставили кровать в кухню и как-то на ней умещались. По приезду мама первым делом открыла дверь в большую комнату, увидела погибшие цветы и безутешно зарыдала. Клавдия Модестовна не выдержала и упрекнула её: "Вы не спросили, как тут без вас выжили ваши дети".
Особенно была тяжела первая военная зима. Весной стали сажать картошку. Мама тайком "брала" в редакции старые газеты из подшивок и меняла их на картошку. Газеты в деревнях брали мужики для самокруток. Огород мы до этого никогда не сажали, так что морковь росла у нас плохо, но картошка стала хорошим подспорьем.
Примерно в это время я с одной из подружек как-то отправилась в военкомат проситься на фронт. Но там с нами даже разговаривать не захотели.
С июля 1941 года я пошла на работу на комбинат. Сначала взяли меня лаборанткой в прядильный цех на чесальные машины. В мою обязанность входило брать пробу на чистоту пряжи, из которой делают нитки. Но так как настройкой чесальных машин занимались ученики ПТУ, не имевшие никаких знаний и опыта работы, то толку от их настройки явно никакого не было: пряжа шла с большим количеством "узелков" - кусочков от коробочек хлопка. (Прядильный цех - это первая обработка хлопка. Здесь хлопок должен быть очищен от посторонних примесей, главным образом кусочков коробочек, так называемых узелков.) Меня, естественно, такая работа не устраивала, и я с радостью согласилась, когда мне в горкоме комсомола предложили перейти работать в телефонный узел комбината ученицей телефонистки. Тем паче, что все обставили так, как будто нас готовят на случай военной необходимости. Но стать телефонистками нам (со мной была ещё девочка) так и не удалось - проработали мы там всего несколько месяцев. Дело было в том, что дирекция комбината задумала убрать давно работающих опытных женщин, т.к. они, как я полагаю, излишне много знали об их, дирекции, личной жизни. (Не знаю как теперь, но тогда коммутаторы были устроены так, что разговоры могли без труда подслушиваться.) Но женщины (их было двое), видимо, не дали себя в обиду (действительно, наверное, много знали…), их оставили в покое, а нас перевели в другие цеха. Меня назначили мотористкой в ткацкий цех. В мою обязанность входило запускать и останавливать огромный мотор, приводящий в движение трансмиссию, которая в свою очередь, приводила в движение ткацкие станки. Цех огромный, страшный шум. Мое рабочее место - на площадке, куда, кроме меня и мастера, никому хода нет. Включать и выключать в течение суток надо несколько раз - в этом мои обязанности. Признаюсь, я панически боялась этих моментов, никак не могла делать это быстро, потому в рубильнике образовывалась электрическая дуга, за что всегда попадало от мастера. Комбинат работал в войну круглосуточно в три смены, выходные дни были очень редкими. Поэтому часто приходилось выходить на работы с 6 часов утра. Это было очень тяжело. Однажды мы с мамой проспали, и я прибежала на работу с большим опозданием. Помню, было воскресенье, цех не работал (это было редко) и мы (мастер, его мальчишки-помощники и я) должны были заниматься профилактикой оборудования. Когда я прибежала, табельщик, пожилой мужчина, очень удивился, т.к. думал, что у меня выходной, а когда узнал, что я опоздала, позвал мастера, и они договорились отправить меня домой, будто у меня на самом деле выходной, сказав выйти мне на работу на следующий день, когда у меня действительно был выходной. Так они спасли меня от серьезного наказания, т.к. за опоздание тогда могли и в тюрьму посадить… В связи с этим вспоминаю и такой случай. Вместе со мной работала моя бывшая одноклассница Зоя. Когда я однажды приехала на каникулы из Горького, то узнала, что её осудили на какой-то срок за то, что она из материала, производимом на комбинате, раскроила себе платье и шила его, видимо, в ночную смену. Мальчишки, помощники мастера, несколько раз находили её шитьё и рвали по швам. Но она не унималась, сшила это платье, и на проходной её задержали, потом отдали под суд. Как сложилась её дальнейшая судьба, я не знаю. Могли и меня тогда осудить - порядки были строгие. Но хорошие люди помогли. А ведь могли и сами пострадать - за укрывательство тоже судили…
В общей сложности я проработала на комбинате 13 месяцев. Потом этот рабочий стаж послужил основанием для получения мною медали "Ветеран тыла" и соответствующих льгот.
В то время, как я работала, моя подружка Аля Перова поступила в Горьковский юридический институт, но не проучившись и года приехала обратно в Родники, объяснив свой уход тем, что "надо будет знать огромное количество всяческих законов и юридических статей", а ей этого никогда не запомнить. Кто ей внушил такую мысль, я не знаю, ни с какими юридическими тонкостями уж на первом-то курсе никак не знакомят. И тогда решили мы с ней вместе поехать в Горький (у неё там жили тетки) и поступить в Институт инженеров водного транспорта, хотя я и реки-то никогда не видела. Но, правда, видела на обложке журнала "Работница" фото единственной в СССР женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Голубая Волга, белоснежный корабль, а на мостике в белом кителе и белом берете с "крабом" женщина-капитан. Большую реку я увидела впервые только в Горьком, который стоит на слиянии Оки и Волги. По ним ходили красивые пассажирские теплоходы, но больше все-таки баржи с военными грузами.
Вспоминаю, как мы добирались до Горького. Поехали не поездом, а по реке. Как мы добирались до самой Волги, не помню, а плыли в переполненном третьем классе, вместе с солдатами. Нагляделись и наслушались всего. Плыли суток двое, еды с собой было очень мало и сутки вообще ничего не ели. Одна из пассажирок заметила, что мы ничего не едим, и предложила немного картошки и огурцов. Но мы отказались, уверяя, что сыты. Прибыли в город уже в темноте, город без огней, на пароходе тоже темно - светомаскировка. Сошли на пристань, потом карабкались с чемоданами по какому-то валу, кое-как нашли дом тётки уже в полной темноте. Кругом темно, окна дома плотно занавешены черным - непонятно, спят люди или ещё бодрствуют за плотными шторами. Квартира тетки на втором этаже. Робко постучали в дверь, никто не отозвался, сели на крыльцо, прижались друг к другу, задремали. Утром кто-то вышел из дома, и наконец мы оказались в комнате тетки. Она напоила нас чаем, на блюдце положила кусочки хлеба. Но я к ним не притронулась, хотя и была очень голодна, т.к. знала, что получает хозяйка хлеб по иждивенческой карточке, а это всего лишь 400 грамм в сутки. Немного отдохнули и поехали в институт. И опять неудача. Оказалось, что занятия начинаются в этом году 1-го октября, а мы прибыли в конце августа. Почему-то нам никто не сообщил (мы были зачислены без экзаменов) об изменении начала занятий. Т.к. обратно ехать на месяц было невозможно, нас определили в цех при институте, где делали формы для отливки снарядов. Работали по 10 часов в сутки, голодали, так как ели только норму хлеба - 600 грамм. Никакого приварка не было, столовая тоже ещё не работала. Формы надо было то ли обжигать, то ли сушить в печи, а дров часто не было. И вот не однажды тащили мы дрова из дворов близлежащих частных домов, оправдывая себя тем, что делаем это для фронта. Как нам повезло, что никто нас не "застукал"! Не трудно предположить, чем бы это могло закончиться.
Учеба в институте.
 |
| Горьковский институт инженеров водного транспорта |
Город Горький расположен на высоком берегу, а напротив - пологий волжский берег, до самого горизонта луга. На противоположном окском берегу располагалось Сормово - промышленный район, где на военных заводах в войну делали орудия и танки. Горьки и Сормово соединял пешеходный мост (по нему, правда, ходили и машины), а недалеко от города через Волгу был железнодорожный мост, по нему в войну шли на фронт орудия и танки. Немцы, особенно летом 43-го года, ожесточенно бомбили эти мосты. По радио часто объявляли, что на город летит 200 самолетов, но порывались к мостам и городу только единицы. Зенитки в городе были установлены прямо на крышах домов, на крышах же во время налетов дежурили дружинники и сами жильцы. Младших студентов, особенно девушек, к дежурствам не допускали. Мы во время бомбёжек толпились внизу у входа общежития или института. В щели, которые сами же вырыли в сквере института, не прятались. Наши девушки вели себя в эти моменты по-разному: Аля Перова ложилась на кровать и ни за что не уходила из комнаты, Саша Назарова надевала на себя все свои платья, хотя и было лето, складывала в авоську куриц, присланных из дома, и бежала впереди всех, другие реагировали нормально - быстро покидали задние, и я вместе со всеми, после того, как не удавалось уговорить Алевтину пойти вместе с нами. На город бомбы время от времени падали, а вот мосты немцы так и не смогли разрушить. В нашей комнате какое-то время жила девушка из Сормово - Вера. Однажды она поехала навестить родителей и попала под бомбёжку и обстрел. Люди бежали в ближайший лесок, а за ними на малой высоте летел самолёт и расстреливал бегущих. А другие летели бомбить сормовский завод. Было много жертв. Мне, слава богу, такого пережить не привелось…
Более обеспеченными продуктами были студенты близлежащих деревень. Им привозили в основном картошку. А остальные, особенно кто жил только на стипендию, сильно голодали. Продуктовые карточки мы сдавали в столовую института, получая взамен обед - жидкий суп, в котором плавало немного пшенной крупы и 600 граммов хлеба, которые мы съедали, ещё не сев за стол, т.к. на каждое место стояла очередь в два-три человека. Вторых блюд я что-то не припоминаю, видимо, их не было. Не помню я и картофеля в этой столовой. Вечером, часов в шесть, мы ходили ужинать; что-то давали, но я помню только брынзу, настолько солёную, что мы её кое-как глотали. Частные лица сдавали в столовую грибы - и хорошие, и червивые. Покопавшись в икре, сделанной из этих грибов, и узрев там сваренных толстых белых червей, мы уходили голодными, едва сдерживая рвоту, до обеда следующего дня. Завтраков не полагалось. Аля Перова получала деньги из дома, поэтому могла покупать на рынке булочки и молоко. Я с другой моей подругой Августой денег из дома почти не получали, стипендии не хватало даже заплатить за обед, поэтому мы частенько продавали на рынке свои пайки хлеба. В эти дни приходилось особенно тяжело. Чтобы как-то выйти из положения, решили всей комнатой сдавать кровь для госпиталей. Первый раз сдали, кажется, граммов по 100-150. Покормили нас отличным обедом из 3-х блюд и что-то заплатили, правда немного. Но когда мы через некоторое время пришли сдавать снова, то у меня кровь не взяли, т.к. оказалось, что моя сданная ранее кровь свернулась. А так ранее отец мой умер от туберкулеза, то меня еще направили на анализы. Но все оказалось нормально, и в следующий раз я уже сдавала кровь вместе со всеми.
Забегая немного вперед, расскажу, как я сдала кровь в последний раз, когда мы поженились с Виктором и собирались уезжать в Якутск. У меня был долг в 400 рублей, а денег взять было негде. Виктору я об этом постеснялась сказать, т.к. предстояли большие дорожные расходы, потому я сдала сразу 400 граммов крови и мне стало так плохо, что я упала в обморок. Но все обошлось…
Расскажу, каким ещё образом мы добывали деньги. Аля Перова решила продать лыжные ботинки, так как наступило лето, и они ей были пока не нужны. Пошли на рынок. По обеим сторонам дороги сидели, лежали нищие и калеки. Все враз взывали к идущим, показывали свои раны и язвы, просили помощи. Незабываемое, печальное зрелище… Но на рынке было полно и жулья. К нам подошли два молодых человека. Один покупатель, а другой вроде как просто зевака. Сговорились продать ботики за 300 рублей. А когда они отошли с покупкой, мы не досчитались ста рублей. Дело в том, что они одну сторублевку сложили пополам, а вторую положили на неё развернутой. Парень держал деньги концом, где лежала вложенная купюра, к нам и так пересчитал - получилось три бумажки. Второй парень нас в это время всячески отвлекал. А когда они отошли, обнаружилось, что это было только две сотни…
Кстати, вспоминаю, как обжулили и меня с туфлями. Отчим тогда погиб на фронте, и его товарищ послал маме и мне его деньги. Мне - 800 рублей. Я решил на них купить туфли. Поехали с Виктором на рынок, купили хорошие черные "лодочки". И какое же было моё горе, когда после танцев, в вестибюле, я обнаружила, что кожа на всей подошве просто стёрлась, потому что была очень тонкая, а половина каблука почти отвалилась. До сих пор не понимаю, зачем надо было прекрасные туфельки так испакостить - уж хотя бы каблук-то можно было бы сделать из одного куска дерева! Позднее, когда мы с девочками работали на сплаве бревен по Волге, я отдала туфли в ремонт за бутылку водки, им сменили каблуки и подошву, и я носила их еще и в Якутске!..
 |
| г. Горький, ГИИВТ, 2-й курс, 20.11.1943. Мои подруги по комнате в общежитии пединститута. Стоят: Лена Демьянова (Волкова по мужу), Вера Ляхова, Саша Кузнецова, Саша Назарова, Августа (Ава) Щербакова, Настя Шарапова, Тамара Орлова Сидят: Маша Корчагина, Аля Перова, Нина Гладкова, Валя Боброва |
Зиму в общежитии мы кое-как пережили. Здание не отапливалось, вода в батареях и кранах замерзла. Умывались в учебном корпусе ледяной водой, полотенца на занятия носили с собой. Мылом пользовались редко, так как у нас его не было. Где-то посреди зимы вдруг решили запустить отопление. Получилось ещё хуже - батареи полопались. На полу кругом вода, чемоданы наши выплыли из-под кроватей. Парни перенесли нас с кроватей на стол, где мы сидели и… пели Интернационал!..
Белье мы стирали, взяв теплой воды на кухне, а вот помыться самим надо было ехать в баню. Как-то, помню, поехали туда на трамвае и решили сэкономить на билете, то есть просто не заплатить. Но не тут-то было - нас оштрафовали, и мы так и вернулись домой грязными.
Весной мы как-то уже прибодрились, стали более практичными, умелыми и внешне преобразились - похорошели. Парни наши (их было не так много, но были, особенно со старших курсов, да еще добавились студенты эвакуированного Ленинградского водного института) стали говорить нам комплименты, ухаживать за нами. Вспоминаю, как нас с Алей пригласил в театр ленинградец Саша Бученков. После антракта мы с Алей вернулись на свои места, а Саша появился, когда уже все уселись, прошел, наступая на ноги и тесня сидящих, вынул из кармана два белых батона и стал их нам совать в руки. Но мы изобразили из себя сытых и благородных девиц и, хотя желудок сводило от голода, и ни за что не взяли. Когда вернулись домой, горевали и ругали себя, хотя знали, что никогда бы (в театре!) не стали есть булку. Но… стук в дверь, и является Саша с булками. Одни их есть мы, конечно, и подумать не смели - разделили на 12 частей.
А в какой-то удачный день ребята заработали на разгрузке баржи, и Саша пригласил меня в ресторан. Пошли все, кто разгружал. Собирали меня все девчонки в комнате. Платье, чулки, туфли - всё чужое. А Тома Жук дала мне свой медальон. Я не обратила внимания, что он открывается и внутри его фотография. А один из парней открыл его и спросил, кто это на фото. Пришлось мне сказать, что это мои дедушка и бабушка, на что он удивился: какие молодые! А это оказались Томины родители. И вот в ресторане ребята решили угостить девушек (было их, кажется, 3 или 2) ирисками, но их без чая не подавали. И вот приносят нам два полных подноса со стаканами, а на маленьком блюдце - крохотные ириски по числу стаканов. Вообще ленинградские студенты вели себя гораздо увереннее, чем наши парни. Они пережили блокаду и ничего не боялись и не стеснялись. До сих пор помню, с каким выражением достоинства Саша позволил гардеробщику надеть на себя пальто, у которого была выдрана вся подкладка - остались висеть только жалкие лохмотья.
Я проучилась в институте всего полтора года. Расскажу о том, что осталось в памяти о преподавателях.
Высшую математику вел ленинградский профессор. Красивый, хотя уже немолодой. Жил он с женой и внуком в вестибюле, как в аквариуме - видимо, нечем было даже закрыть стеклянные стены. Впечатлений от его лекций я не помню, а вот экзамены часто вспоминаю. Первый экзамен сдавали в весеннюю сессию, а до экзамена выполняли контрольную работу. Все наши девушки в группе её списали. Профессор это заподозрил и просил каждого объяснить свое решение. Я справилась с этим хорошо, а многие не смогли - значит, решили не сами. На вопросы билета я ответила. Профессор поставил мне 5 и пожал руку. А вот экзамен в зимнюю сессию прошел не так гладко. Ответ на билет я знала, но забыла, чему равно число "е" - надо было для решения задачи. Потихоньку решила заглянуть в конспект. Он заметил, вспылил, но билет мне не сменил. Число не подсказал, хотя я и попросила. Пришлось все-таки подсмотреть его в лекциях. Задачу теперь уже решила и ответила на все вопросы билета. Профессор посмотрел на меня пристально, пригладил усы, сказал: "Отлично". И поставил в зачетку какую-то оценку. А потом ка-ак размахнется и бросит её к двери! Когда я вышла из аудитории и раскрыла зачетку, то увидела: три. Так вот лишилась на второй семестр повышенной стипендии…
Запомнился преподаватель по начертательной геометрии - требовательный, придирчивый. Он все хотел от нас, чтобы мы обнаружили в себе пространственное воображение:
- В правом углу аудитории висит на синем шнуре красный шар. Видите?
- Нет!
И тому подобное…
Многие студенты признавались, что действительно не могут представить себе несуществующий предмет в пространстве. Это потом дало себя знать, когда выполняли задания по техническому черчению. Дадут деталь, ни в какую дырку не заглянуть, что внутри - надо представить самим. Давалось это трудно, обращались за помощью к старшекурсникам.
Преподаватель по гидравлике был знающим специалистом, но рассеянным и несобранным. Студенты умудрялись утаскивать у него из портфеля экзаменационные билеты, и результаты экзаменов были, естественно отличными, а преподаватель доволен…
Когда мы с Виктором поженились, мне молодой преподаватель (он жил в одной комнате с Виктором и Колей Волковым) сказал: "А мы рассчитывали привлечь вас к работе на нашей кафедре". Я удивилась - неужели студентке первого курса уже можно работать на кафедре, знаний ведь нет.
Куратором нашей группы был профессор Вольский. Обаятельный человек. Он был очень занят, работал, кроме института, на оборонных заводах Сормово. Часто уезжал туда даже во время экзамена. Нас распускали, а через день-два мы приходили досдавать. Профессор менял все задачи и задания ("Вы по старым билетам, конечно, подготовились…") Главное на его экзаменах было решить задачку: определить силу, которая на что-то там давит… Вольский интересно читал лекции. Еще на лестнице говорил: "На чем, на чем мы остановились?". Заходил в аудиторию и сразу начинал писать формулы с того места, на котором остановился в прошлый раз. Мы поражались, как он это помнит, ведь проходила порой неделя, не меньше.
Как куратору, времени на нас у него не было. Он нам так это и сказал (да мы и сами это понимали), купил всей группе билеты в театр, на этом и кончилось его "воспитание" нас.
Уставали мы от преподавателя черчения: "С вашего позволения, я сотру с доски…", "С вашего позволения, я возьму мел и запишу следующую формулу…", и так далее. И так все два часа лекции. Мы пытались подсчитать, сколько же раз он произнесет эту фразу, но сами уставали и сбивались со счета… Но предмет он знал хорошо, и когда консультировал по заданию (у всех они были индивидуальные), то каким-то образом обходился без своего "с вашего позволения…".
Теоретическую механику читал профессор Дубровский, старый уже человек, уставший от студентов и их бестолковости. Студенты старших курсов нас предупредили, что садиться в аудитории на его лекциях надо не ближе второго или третьего ряда, так как он брызжет слюной и громко "портит воздух". Я сдавала у него экзамен всего один раз, получила 5. А вот Лена Волкова (она, как и я, вышла замуж на втором курсе и уехала с Колей, другом Виктора, по распределению в Иркутск) никак не могла получить хотя бы тройки. Коля с ней разобрал несколько раз весь материал, но все равно профессор так и не поставил ей положительной оценки даже после седьмой или восьмой переэкзаменовки. Тогда секретарь факультета поставила ей в выписке 3, пожалев Лену и посчитав, что знает она этот злополучный предмет ну никак не хуже других студентов.
Своеобразные отношения сложились у меня с преподавательницей английского языка. На занятия она приходила всегда усталая, с бидоном и авоськой. Видимо, по дороге заходила ещё в магазин в поисках продуктов для семьи. Я была старостой группы и "по долгу службы" должна была каждому преподавателю предоставлять журнал, где они делали отметку о проведенных занятиях. Девчонки время от времени сбегали всей группой с занятий английского языка в кино, а я должна была оставаться ждать преподавателя. Ей было неловко передо мною, но она расписывалась будто бы за проведенные занятия, смущенно улыбалась и, думаю, радовалась про себя, что ей выпало лишнее время, чтобы ещё где-то поискать что-нибудь съестное для своих домашних. Английского языка я не знала совершенно, не могла усвоить даже начала грамматики, а на контрольных работах садилась между Томой Жук и Алей Перовой и заглядывала в тетрадь то к одной, то к другой. И каким-то чудом получала порой отметки даже выше, чем у них. В чем тут был фокус - до сих пор не знаю…
Но вот пришел час расплаты: экзамен в зимнюю сессию на первом курсе. Принимает экзамен вся кафедра. Я сижу, "готовлюсь", и хочу подгадать отвечать к своей преподавательнице. Но пришлось пойти к другой. Та сразу поняла, какие у меня знания, но поскольку по другим предметам, сданным раньше, у меня стояли одни пятерки, то посмотрела на меня, ничего не сказала, подошла к моей преподавательнице и что-то зашептала ей на ухо. Та сделала удивлённое лицо. И порешили они не ставить мне оценку в табель, а повторно принять у меня экзамен в другое время, уже моей преподавательницей. Что я ей там плела, не помню. Она извинилась, что не может оценить мои знания на 4, так как это пересдача и поставила тройку. Позднее, в Якутском пединституте я тоже "изучала" английский и сдала его, видимо, только потому, что педагог все время приходил на занятия с завязанными ушами или зубами, и ему было явно не до нас… Такая вот незадача сложилась у меня с иностранным языком. А все остальные члены семьи: муж, дети, внуки не страдали этой "болезнью".
Когда пришлось столкнуться с марксизмом-ленинизмом (читал и проводил семинары мужчина - совершенно бесцветная личность неопределенного возраста) возблагодарила судьбу, что пронесла она меня мимо Ивановского пединститута, куда я хотела поступить на исторический факультет. На лекциях была ужасная скучища. Лекции этот преподаватель читал монотонно: "Бу-бу-бу…" А на семинарах мы почему-то самостоятельно читали "Манифест" Маркса, а преподаватель в это время что-то писал. Обсуждения он никакого не устраивал, не интересовался, прочитали мы или нет заданное. Практические занятия проходили живее. Женщина, которая их вела, была, как она постоянно нам напоминала, прототипом одной из героинь романа "Мать" Горького. Вокруг этого, в основном, и велся весь разговор на каждом занятии, поэтому мы никогда и не готовились к этим занятиям. Роман-то мы знали по школе. В свое время её наградили орденом Ленина. Вначале мы полагали, что у неё их два, так как видели орден и на пальто (на улице) и на костюме (в институте), а оказалось, что она орден все время перевешивала с место на место, в зависимости от того, во что была одета.
Припомнилась мне здесь одна забавная история, связанная с этим романом Горького, случившаяся уже в Якутске, когда я работала в ЯГУ. Один из наших соседей, живущий по улице Орджоникидзе в небольшом домике в глубине нашего двора, рядом с туалетом, видимо, по настоянию начальства по службе (в каком-то юридическом учреждении) решил попытаться поступить на заочное отделение историко-филологического факультета. Человек он был лет 35-40, пьющий, о литературе знающий понаслышке. Сочинение на вступительном экзамене писал по "Матери" - самая популярная тема была у абитуриентов, да ещё "Как закалялась сталь" Н. Островского. До сих пор помню его "шедевр": "В романе Горького "Мать" описывается Морозовская стачка Иваново-вознесенских ткачей в Ленинграде"! И все остальное в таком же духе. Проверяла его сочинение я, поставила, естественно, двойку и приобрела врага. Он часто бывал пьян и где бы ни встретил меня, громко кричал, что я не знаю литературы, хоть и преподаю в университете, а еще я, бессовестная, ношу в уборную мимо его окон горшок с говном. Длилось это долго, и я вздохнула свободно только тогда, когда он куда-то переехал.
Но вернемся в Горький. На первом курсе весной у нас была геодезическая практика. Нас разделили на группы по несколько человек, и дали задание: сделать съемку на небольшой площади на берегу Волги. Мы усердно все измерили и довольные отправились в общежитие перенести на бумагу результаты своей работы. И получилось у нас на чертеже совсем не то, что надо - конец с концом не сошлись, Начали мы, вместо того, чтобы все перемерять, подгонять полученные данные. Но педагог, лишь взглянув, всё поняла и отправила нас измерять все заново.
Зимой, видимо, на первом курсе, мы на каникулы решили съездить домой - я, Ава и Аля. Взяли по незнанию билеты до Иваново, а не до Родников. Выдали нам в институте справки, будто мы едем вербовать школьников-выпускников поступать в наш ВУЗ. В Иваново сошли с поезда, и начались наши приключения. Взяли билеты до Родников, а в вокзал нас не пускают - надо пройти санпропускник. А наш поезд до Родников будет только почти через сутки. На улице холодно. Пошли в санпропускник. Небольшой домик, в нем одна комната-предбанник, где надо раздеться догола, сдать свои вещи на обработку, получить шайку и кусок вонючего, видимо, специального мыла и идти мыться. Пускают по очереди - то группу мужчин, то женщин, а так как на улице холодно, то набился в предбанник народ разного пола. Стыдно было, но холод не тётка, пришлось раздеться, и, прикрыв "грех" шайками, бежать в мойку. А мужикам развлечение: гогочут, громко обсуждают женские прелести. Таким же образом и после мойки: кое-как оделись на мокрое тело (полотенец, конечно, не положено) и бегом на вокзал. Со справками из санпропускника пустили. К утру уехали в Родники.
Сколько дней мы гостили дома, не помню. Мама насушила мне мешочек картошки и немного сухарей. Всё это она выменивала в окрестных деревнях на газеты из редакции, которые брала из подшивок. А еще дала мне 500 или около того рублей. На обратном пути наш поезд из Родников должен был прибыть в Иваново за 30-40 минут до отхода горьковского. В вокзал мы решили не заходить и подождать на улице. Поэтому я положила деньги в чемодан, а он на ключ не запирался. Но родниковский поезд опоздал, и ждать следующего поезда до Горького предстояло сутки. Пришлось пойти в вокзал (санпропускник вроде уже не проходили) и сдать чемоданы в камеру хранения. Про деньги в чемодане я вспомнила только через сутки, когда стала его забирать. Но, увы, их там не оказалось. Вызвали милиционера, но хотя принимала и выдавала багаж одна и та же девушка, доказать мы ничего не смогли, тем более, что по правилам деньги, да еще в незапертый чемодане, оставлять было не положено. Маме я об этом ничего не написала, так она и осталась в уверенности, что на какое-то время меня поддержала…
Вспомнился еще один эпизод из нашей студенческой жизни. Одна старшекурсница работала кладовщицей на кондитерской фабрике. И однажды она предложила мне пройти с ней в кладовую на фабрике. С охраной у неё были хорошие отношения - видимо им кое-что доставалось, поэтому пропустили внутрь и потом выпустили свободно. Мне было позволено есть сколько угодно (по-моему, пряники и печенье), а вот с собой унести, по договоренности с охраной, совсем немного. Весь день я сидела в кладовой за мешками мукой и так тряслась от страха, когда кто-нибудь заходил, что в рот ничего не лезло, а к вечеру благодетельница моя меня вывела, и я шла домой и все время оглядывалась, не идет ли за мной милиционер. Девчонкам принесла в карманах по паре печенья. Через некоторое время такой вояж повторила ещё Маша Корчагина, и на этом всё прекратилось.
В нашем общежитии жили студенты, парни и девушки, с разных курсов. Влюблялись, женились. Из нашей комнаты первыми вышли замуж мы с Леной, за наших приятелей. Между прочим, избранника моего, Виктора Дугласа, в институте все звали Фон. Лена и Коля Волковы поехали к месту назначения в Иркутск, а мы с Виктором - в Якутск. У него было соглашение с Ленским речным пароходством, они даже выслали нам денег на дорогу.
В Якутске
Зимой 1945 года мы с Виктором поехали на поезде из Горького до Иркутска. (Летом 1951 года мы также проехали по стране на поезде - ехали в отпуск сперва по Лене на пароходе до Осетрово, а дальше на поезде.) Пейзаж был везде одинаковый - леса, поля, деревни, занесенные снегом. В крупных городах остановки, на которых можно было купить что-нибудь из продуктов. На одной из таких я соблазнилась и купила курицу. Выбирала из двух и взяла ту, которая больше, хотя удивлялась, что обе были по одной цене. Всё объяснилось, когда стали кушать: откусить от "курицы" было невозможно, так как это был старый жилистый петух. После Иркутска надо было добираться или машиной по Неверскому тракту, что было нежелательно, или самолетом (летали только грузовые "Дугласы"). На самолет мы попали не сразу. Помог один из работников иркутского Аэрофлота, когда узнал, что Виктор - сын Петра Ивановича, с которым они когда-то где-то вместе работали. Мы обрадовались, так как был февраль, очень холодно, и на грузовике нам, легко одетым, пришлось бы плохо. Самолет наш был грузовой, неприспособленный для перевозки пассажиров. С нами также летела окончившая ВУЗ в Иркутске дочь известного врача Раден. В самолете холодно, хорошо, что груз был мягкий, в мешках. В него мы и зарылись. Летели долго, с несколькими посадками . В порту нас никто не встречал, как потом выяснилось, потому что ждали позднее - мы не успели сообщить, что полетим самолетом, а не поедем через Невер. В телеграмме ранее Виктор сообщил, что едет с Тамарой, но о женитьбе не упомянул. И все гадали, кто же это такая. Отец, впрочем, сразу сказал, что имя просто попутчицы Виктор сообщать бы не стал, стало быть - жена. Петр Иванович хотя и был в это время в заключении, в Хатассах, но исполнял там обязанности завхоза, так что в передвижении был относительно свободен - мог отлучаться из зоны.
Не знаю, какое впечатление я произвела на семью Виктора - Степаниду Николаевну, Петра Ивановича, Галю и Наталью. Последняя, как мне показалось, была мною недовольна, так как хотела, чтобы Виктор женился на учительнице из их, кажется, школы. Когда родилась Таня, она даже к ней долго не подходила. Училась она в это время, насколько я помню, в 8-м или 9-м классе. Галя весной уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельхозакадемию. Летом вернулся из Хатасс Петр Иванович.
К первому же обеду Степанида Николаевна решила сделать пельменей. Все уселись их лепить. А я и не знала, как их лепить-то. Всю мою предшествовавшую жизнь они, по бедности нашей, никогда не входили в наш рацион…
И потекла наша жизнь вчетвером в одной комнате, а Петр Иванович соорудил себе топчан в каком-то коридорчике. Родители Виктора тогда арендовали в частном доме одну комнату и проходную столовую, из которой была дверь еще в одну комнату, в которой жили соседи - мать и взрослая дочь. Дочь работала в городском военкомате, и почти каждую ночь её посещали военные, каждый раз разные. Мы по утрам проходили столовую с опущенными глазами, а она - с гордо поднятой головой и довольной улыбочкой…
10 марта [1945 года] я пошла в пединститут устраиваться с переводом на литературный факультет. За несколько дней до этого в институте сменился директор. Им стал Аксений Егорович Мординов. Студентами в то время были в основном девушки, только через год пришли с фронта ребята. Аксений Егорович был удивлен, что я, неплохая студентка технического вуза, хочу стать гуманитарием. Он долго уговаривал меня перевестись на физико-математический факультет, обещал, что все предметы, сданные мною за полтора курса, будут мне зачтены, и я буду сразу получать стипендию. Но я не сдавалась: "Люблю литературу!" Он рассердился (а человек он был крутой) и сказал, что больше со мной не желает говорить. "Переводим вас, но условия такие: ничего вам из сданного в водном институте быть зачтено не может, даже физкультура и военное дело. Переводим на 1-й курс, и за два-три месяца вы должны сдать все предметы по программе, стипендию получите, когда сдадите летнюю сессию". Я согласилась со всеми его условиями. И началась тяжелая страда. Все время я что-то сдавала: историческую грамматику, славянский язык(!), языкознание, русский язык, знания которого у меня были на уровне школьной программы, введение в литературоведение, фольклор, древнюю литературу и т.д. Лекций я не слушала, консультаций мне никто не давал, до сих пор не пойму, как я все это одолела и, разумеется, вовсе не за два-три месяца. Последний экзамен по психологии сдавала уже на последнем курсе, перед самым государственным экзаменом. Толстенный учебник я успела прочитать всего один раз. Читала с интересом, но многого не смогла запомнить, особенно определения, которые надо было знать как формулы.
Экзамен сдавала Марианне Алексеевне Чудиновой, обаятельной женщине, с которой мне потом довелось встретиться в 8-й школе, где у меня учились её дети. Марианна Алексеевна попросила меня дать определение понятия память, но не своими словами, а как формулу. Я не могла вспомнить. Тогда она сказала, что положительную оценку поставить мне не может. Надо было спасать положение, отступать было некуда, и я не стесняясь заявила: "Поставьте мне три!", объяснила, в каком положении я оказалась, что учебник прочитала только один раз, но с большим интересом, что в практической работе в школе буду обращаться к нему не раз… и что-то еще горячо и напористо… Что-то, видимо, заставило её поверить мне, и в зачетке появилась тройка. Ура! - завтра буду сдавать первый экзамен!.. Но обещания своего я так и не сдержала - учебник не перечитала…
 |
| Школа №8 (женская). В центре нижнего ряда, без очков - Дмитрий Георгиевич Новопашин. |
Когда школа опять стала смешанной, у меня в восьмом классе учился Миша Чудинов. Умный мальчик, по всем предметам успевал хорошо, но грамотность его "хромала на обе ноги". За год я поставила ему двойку, со сдачей экзамена осенью. Марианна Алексеевна была очень огорчена (не знаю, помнила ли она, что когда-то подарила мне тройку), но я её не сразу, но убедила, что это самый верный путь заставить Мишу заняться русским языком - мальчик он с достоинством, на второй год остаться никак не захочет - гордость не позволит, да и вы все сделаете, чтобы он понял, что языком надо заниматься серьезно. Так и получилось - в девятом классе ниже четверок по языку у него не было.
Но были и просчеты на этом пути. Всего год учился у меня в 10-м классе мальчик Сергей (фамилию никак не вспомню). Воспитывался он у бабушки, так как мать после развода снова вышла замуж, а мальчик не захотел признать отчима. Учился Сергей хорошо, но почему-то не отвечал по литературе. Постоит, постоит у моего стола и, не сказав ни слова, сядет на место. Я много с ним возилась, пыталась беседовать, уговаривать. Результат один - молчит. Из разговора с матерью я узнала, что и в семье у них сложные отношения, и она даже опасается за его психическое здоровье. Я решила не допускать его к выпускным экзаменам, а в то время не аттестация по одному предмету влекла за собой перенесение экзаменов на аттестат зрелости на следующий год. Была я в то время ещё молода и неопытна, чтобы отнестись со всей серьезностью к словам его матери (она была врач). Что подумают обо мне мои ученики, если я, такая строгая и справедливая в оценках учительница, допущу такую слабость, думала я. А ведь экзамен по литературе был только письменный, сочинение - вот и проверили бы, знал он материал или нет. Но на педсовете никто, кроме Лидии Николаевны Романовой, и не подумал что-то доказать или убедить меня поступить иначе… Экзамен - сочинение, был традиционно двадцатого мая. Наш район механических мастерских, в котором мы тогда жили, был затоплен разлившейся Леной. В нашем одноэтажном домике вода доходила до сеток кроватей. Детей мы отправили к тёте Виктора, Марии Ивановне Дуглас. На экзамен я не смогла прийти, а днем мне позвонили по телефону и сообщили, что накануне Сергей ушел на охоту на уток и домой до сих пор не вернулся. Вертолёт, посланный на его поиски, снял его, живого, с льдины. Никто меня ни в чем не обвинил, но сама себя я до сих пор считаю виновной. И хотя прошло много лет, я вспоминаю об этом с сердечной болью. А особенно сейчас, когда в нашей семье в этом плане тоже не всё благополучно. Сергей, кстати, был знаком с Натальей Кокшарской, дочерью Марии Ивановны Дуглас. Какова его судьба?
А еще одна история связана с Сергеем Айкаровым. Он представлял собой какое-то феноменальное явление - ни одного слова он не писал грамотно: не дописывал окончания, пропускал или переставлял буквы, слова, а об орфографии и пунктуации и разговора не было - ни одной запятой правильно поставить не мог. И такое было в 10-м классе! Конечно, он получил переэкзаменовку по языку (в то время такое уже допускалось и в выпускном классе). Ко мне на дачу пришел его отец и просил, чтобы я поставила ему положительную оценку. Я ничего не обещала, так как поставить даже "три" не было никакой возможности. Сергей поступил в вечернюю школу и через год получил аттестат. Не умаю, что там он преуспел, но, видимо, нашли возможность как-то его выручить. Он проявил себя в спорте, стал чемпионом республики то ли по боксу, то ли по вольной борьбе.
Работала я в 8-й школе с 1948 года по 12 января 1963 года, до перехода, по рекомендации Галины Григорьевны Таубер, в ЯГУ историко-филологический факультет на должность методиста по литературе, но вела еще введение в литературоведение, выразительное чтение и теорию литературы. До сих пор не могу понять, как я умудрялась вести теорию литературы на 5-м курсе. В советское время это была самая настоящая лженаука, задачей её было обоснование социалистического реализма, как основного (лучше сказать, единственного) направления советской литературы. Это направление обосновал в свое время М.Горький, и сколько замечательных произведений или не увидело свет, или было исковеркано цензурой, т.к. не укладывалось в это "прокрустово ложе"… Несколько лет я маялась с этим, но когда вернулся из аспирантуры Иннокентий Гаврилович Попов, курс передали ему. Человек он был молодой, знающий, смелый и потому рабски (как я) не следовал, я думаю, литературоведческим догмам.
Заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы была тогда Зинаида Николаевна Альбина, а после ее отъезда в Киргизию - Иннокентий Гаврилович Попов. (Кстати, в это же время ректором ЯГУ был его полный тёзка.)
Я проработала в университете 21 год до ухода на пенсию в 62 года. Стали болеть ноги, в это же время я привезла из Василькова маму, которая страдала болезнью Альцгеймера и умерла 18 мая 1989 года.
 |
| Якутский Госуниверситет, кафедра русской и зарубежной литературы. Май 1984 года. Стоят: Прасковья Васильевна Сивцева - лаборант, Зоя Константиновна Башарина - преподаватель, Марта Георгиевна Михайлова - зав.кафедрой, Мария Алексеевна Андреева - преподаватель, Светлана Максимовна Петрова - преподаватель Сидят: Клара Овшевна Варшавская - преподаватель, Анна Александровна Щёцкая - преподаватель, Тамара Ивановна Орлова - преподаватель, Анатолий Алексеевич Бурцев - преподаватель |
Из преподавателей кафедры мне более всех были близка Мира Яковлевна Мишлимович. Она была еще моей ученицей в 8-й школе, потом стала учительницей литературы в 3-й школе. Отличной учительницей. И я рекомендовала её Попову, когда встал вопрос о втором методисте. Работали мы с ней дружно, я всегда заменяла её, когда она работала над диссертацией или уезжала на консультации и защиту в Москву. Сейчас она профессор.
Клара Овшевна Варшавская помогала мне в редактировании моих работ по теме "Изучение опыта работы учителей литературы" (И.Н.Кашкарова, Н.Ковинина, учителя Мюрюнской, Борогонской и др. школ). По этой теме, "Принципы изучения опыта изучения учителя литературы средней школы", когда я была с докладом на одной методической конференции в Ленинграде, ведущие ученые-методисты предложили мне написать диссертацию. Заочно, но руководителя не могли предложить, и я отказалась. Без руководителя трудно, хотя им, я думаю, могла стать Клара Овшевна. Кроме того, я боялась экзаменов в заочную аспирантуру - английский, философия, да и Виктор Петрович не тот человек, на которого можно было оставить дом и детей. По этой причине я никогда не соглашалась поехать на курсы усовершенствования в центр. Работала я и над темой "Заочная экскурсия при изучении биографии писателя в старших классах средней школы" (Например, "Толстой и Ясная Поляна"). Несмотря на то, что я не была кандидатом наук, я все же была на хорошем счету - и на факультете, и в Институте усовершенствования учителей, с методистами которого я тесно сотрудничала. До самой пенсии я оставалась старшим преподавателем, хотя всех, не имевших степени, перевели в ассистенты. За меня горой стоял декан факультета Алексей Федорович Алексеев. Я читала лекции, вела практические и семинарские занятия, спецкурсы, каждый год было много дипломников. На кафедре русского языка ближе всех мне были Любовь Вениаминовна Шургина и Тамара Парфентьевна Самсонова. В Институте усовершенствования учителей теснее всех мы сотрудничали с Алой Матвеевной Мозговой и позднее с Ниной Степановной Костиной.
Возвращусь немного назад, упустила кое-что. В педагогическом институте я училась недолго, была замужем, появилась дочь Таня, надо было все время сдавать долги, экзамены, поэтому не пришлось близко сойтись со своими сокурсницами-студентками, которые были свободны от таких забот.
 |
| Катя Мироманова |
Как-то вспомнилось в связи с этим еще одна обида, надолго мною запомнившаяся. В конце первого в моей работе учебного года директор школы Д.Г.Новопашин подводил на педсовете итоги работы за год. И когда дошел до 6Б класса, в котором я была классным руководителем, сравнил его успехи с 6А классом, где классным руководителем была опытная, с большим стажем учительница. Сравнение было, конечно, не в мою пользу - и по успеваемости, и по каким-то другим показателям. Меня это оскорбило, тем паче, что я очень старалась, и с классом у меня был контакт, а директор, ни разу не поинтересовавшийся моей работой, так её оценил. И у меня началась буквально истерика, я рыдала, все были смущены. Кто-то из преподавателей увел меня в другой класс и пытался утешить. Но я долго не могла успокоиться… Через несколько лет, когда я была признана одним из лучших учителей города, Дмитрий Георгиевич мне как-то в доверительной беседе признался, что он до сих пор не может понять, почему я тогда на него так обиделась. Я ничего не могла тогда ему ответить - снова застрял комок в горле, полились слёзы. Он увидев это, извинился и отошел. А это, как я позднее поняла, было следствием развития у меня болезни щитовидной железы, вызванной недостатком йода - болезни, которая особенно сильно меня донимала, когда я стала завучем. Работа с большим коллективом не для меня, и я кое-как смогла освободиться от нее, и то благодаря скорее тому, что зав. ГорОНО Е.И.Томская стала министром просвещения, а сменившая её Федорова пожалела меня и отпустила с миром. Этому и я и мои ученики-десятиклассники очень были рады. Назначенного вместо меня на время моего "завучества" классным руководителем учителя черчения Попова (ныне известного художника) они дружно игнорировали.
Поселились мы в Якутске с семьёй родителей Виктора. Война шла к концу, да и до войны мы в Родниках жили очень плохо, я сильно обносилась, так что приехала совсем раздетая. Мне сразу сшили шелковое платье и пальто из какой-то зипунной ткани, а когда я начала работать в школе - костюм. Я всячески старалась украсить себя вышитыми вещичками.
В Якутске появились друзья: Анастасия Александровна и Владимир Андреевич Ястребовы - оба работали в пароходстве, Раиса Сергеевна и Борис Григорьевич Ченосовы, Таисия и Алексей Бабурины, Светлана и Володя Бобряковы, Алевтина Григорьевна и Иван Александрович Дмитриевы. Мы часто встречались, особенно с Ястребовыми. Позднее, когда у всех нас появились машины, вместе выезжали на природу. Но жить с родителями в одной комнате нам было тесно, а Виктору квартиру не давали. (В нашей стране во все времена квартирный вопрос стоял очень остро.) И вот я решила пойти на прием к начальнику пароходства Дубровскому. Я вроде все обдумала, что скажу, но когда секретарь доложила обо мне, я вошла и села, то ничего сказать не смогла - сразу залилась слезами. Дубровский ничего не смог понять, вызвал секретаря, та объяснила, кто я такая, чья жена и по какому вопросу. Кое-как я успокоилась и объяснила сама, что нам негде жить. Он кого-то вызвал и дал задание подыскать что-нибудь хотя бы небольшое (и, конечно, неблагоустроенное - других все равно не было). Через некоторое время мы стали жить отдельно. Было трудно, т.к. я работала, и хотя наша квартира была недалеко от школы, но Таню одну оставлять было нельзя, а в садик она ходила очень редко, так как часто простывала. Когда я уходила на уроки, к нам приходила Степанида Николаевна. Приходила со своим самоваром, грела воду и стирала принесенное с собой белье. Своей печки у нас в комнате не было - только выходил угол печи-голландки из коридора. Пищу мы готовили на керосинке, которая у нас однажды чуть не взорвалась. Общей кухней (она была через коридор) мы не пользовались, хотя соседи нам и предлагали, т.к. выходящие в нее две комнаты занимала очень большая семья, в кухне была очень грязно и столько тараканов, что я столько больше нигде в жизни не видела.
Через два-три года Виктор был назначен директором ремонтных мастерских, и мы заняли маленький домик на их территории. Ещё когда мы жили на старой квартире (сейчас там новое крыло универмага) у нас стала жить Зоя, её привела Катя Мироманова. Она воспитывалась в детском доме, ничего, естественно, делать не умела, характер у нее был сложный. Она была что-то вроде моей помощницей, приглядывала за Таней, а потом и за Ирой. Она кончила вечернюю школу и поступила в медицинское училище, окончила его и ушла от нас работать к врачу - хирургу Любимову. А я нашла уже настоящую домработницу. Сусанна и вела хозяйство, и смотрела за девочками. Она была финка (советская), но так как жили они у самой границы, то их сослали в Якутию, не знаю, сколько их там было. Сусанна всегда возмущалась, за что их отправили так далеко от дома, в чем они провинились перед Советской властью, почему каждый месяц надо было ходить в милицию отмечаться. Она была очень хорошая девушка, много мне помогала. Но пришло время расстаться - ей позволили вернуться на родину. Было после неё еще три домработницы, если их вообще можно было так назвать - доброй памяти о себе они не оставили.
Потом приехала моя мама, её привез Виктор - мы были на курорте и на обратном пути он заехал за ней на Украину. Девочки в это время жили у бабушки с дедушкой. Родился Андрей, но когда ему исполнился один год и два месяца, его положили на лечение в костный туберкулезный диспансер. У него не было туберкулёза, но ортопедической службы в Якутии тогда не было.
 |
| Сохранилась открытка, посланная 9 августа 195… года из Мисхора в Якутск на адрес Петра Ивановича Дугласа |
Мама уехала от нас, как только Андрюшу определили в диспансер. Она никак не уживалась с Виктором. Её возмущало, что он все заботы сваливает на меня, пьёт, да и другие его грехи…
Через 11 месяцев Андрюшу выписали. Сначала ему освободили одну ножку, потом другую, затем снова учили ходить. Я посетила его за это время всего два-три раза. Он дичился, отворачивался, не говорил ничего, хотя к тому времени говорил уже неплохо. Научили его в диспансере хорошим манерам, правилам поведения за столом - класть на колени салфетку, благодарить за пищу, и т.п. "Наконяся ниже!" - поучал он своих старших сестёр за столом. Но очень быстро его от этого дома отучили, и стал он обыкновенным шалуном. Обещание своё врачи выполнили - Андрей не хромает, ноги развились нормально.
До 1963 года я работала в 8-й школе, работу свою очень любила, с учениками и их родителями дружила. Никогда у меня не было и проблем с дисциплиной. Первый класс, с которым я начала работать, был 6Б, это когда школа была еще женской, потом в 8-м классе влились ученицы из школ-семилеток, а в 10-м классе, когда снова объединились мужские и женские школы, в наши два 10-х класса пришли мальчики из 9-й школы, где директором был Моисей Израилевич Кершенгольц. В этом моем первом классе учились литовские девочки, из сосланных во время войны семей, все были очень воспитанные, хорошо учились. Они то и стали моими самыми любимыми и утвердили меня в том, что я выбрала правильную профессию. В 2002 году исполнилось 50 лет их выпуска, когда эти ребята закончили школу, и мы собрались, правда не так многочисленно, на даче у Галины Андриановны Расторгуевой. Была теплая и сердечная встреча. Я вышила каждому открытку, а Галина Андриановна их оформила. А они нам подарили по огромному альбому на 400 фотографий. А в 2004 году все они были на моем 80-тилетии. Всем им самим уже по 70 лет, моим первым ученикам…
Парни, которые проучились в 8-й школе всего один, последний год, так и продолжали всю жизнь считать ее своей родной "alma mater". С одним из них, Николаем Ивановичем Копыловым, мы переписываемся уже несколько лет. Он живет в Новосибирске, и был знаком с Таней, часто ей звонил.
С другими классами у меня тоже были хорошие отношения. Мы вместе готовили тематические вечера для старшеклассников городских школ. Особенно удачным был вечер в нашей школе, посвященный Маяковскому (доклад, выставка, стихи, постановка "Бани"), и в пионерском дворце - вечер, посвященный Чехову. Были олимпиады, концерты в избирательных участках, участие в смотрах школ, где два моих ученика стали лауреатами. Тогдашний директор школы Иван Иванович Винокуров все недоумевал, зачем я на себя взвалила такой труд. А мне самой было интересно. Я, например, в 10-м классе, при изучении творчества Маяковского, приглашала на уроки артиста Русского театра. Он был уже пожилым человеком и не очень востребованным в театре. Надо было видеть, как он был доволен, с каким воодушевлением он читал своего любимого поэта! А ученики не отпускали его все два урока и перемены… К сожалению, он потом недолго проработал в театре, и больше мне не удалось его пригласить. Но после этой встречи ученики сами решили подготовить вечер, посвященный поэту. (По материалам этого вечера была выпущена брошюрка.)
Много я занималась с учениками по русскому языку (в старших классах был всего один урок раз в неделю). Занималась с группой, по какой-нибудь определенной теме или индивидуально, придумывала разные методы, чтобы усвоение языка было творческим (по этому вопросу есть опубликованные работы - мои и моих коллег). Были интересные методы и по литературе. Из того, что помню: сочинение в виде письма от лица Варвары, или Бориса, или Кулигина о судьбе Катерины ("Гроза" А.Островского); сочинение на тему "Учимся жить и трудиться по-коммунистически" в форме отчета по практике на производстве (была тогда такая в старших классах, наша Таня, например, работала на макаронной фабрике). Интересно, что ученики в своих отчетах писали не только о положительных явлениях в нашей городской типографии, где они проходили практику и которая считалась "предприятием коммунистического труда", но и о недостатках, которых, конечно, было тоже немало. Потом по материалам сочинений сделали стенную газету и повесили её в вестибюле типографии. Около неё всегда толпился народ; кто-то был доволен, а кто-то сердился, поскольку в газете говорилось не только о достижениях коллектива, но и о неблаговидном поведении некоторых его сотрудников, например, о коллективных пьянках на рабочем месте и т.п. Разбор сочинений и всего хода работы по этой теме был организован институтом усовершенствования учителей как открытый урок для учителей города. Были приглашены и представители руководства типографии (пришли!), и нашим ученикам тоже досталось за опоздания, пропуски и другие грехи, о которых они и в своих работах, и в газете, конечно, умолчали. Так воспитание и обучение слились в один процесс, что было особо отмечено учителями.
Много было и другого интересного и творческого в работе, особенно по литературе в старших классах. Можно сказать, что работа в школе (с осени 1948 года до января 1963 года) были моими самыми счастливыми годами. В личной жизни были трудности, в семейной тоже не все слава богу, все дети родились в это время, пришлось держать нянек, все они были разные и, как правило, не устраивающие меня. Но был зато простор для творчества, хорошие ученики. Были и ошибки, и разочарования - давало себя знать отсутствие фундаментальных знаний, институт ведь закончила совершенно самостоятельно, до сих пор удивляюсь, как у меня хватило на это времени и сил.
Я с удовольствием ездила в районы, читала лекции в институте усовершенствования учителей, изучала и писала об опыте учителей русских и якутских школ и многое другое.
По республике мне довелось поездить как лектору института усовершенствования учителей. Была в Олёкминске, Ленске, Нюрбе, Майе, Борогонцах, Тикси, Мирном, и еще где-то, уже и не помню. Но было это, как правило, тоже зимой, поэтому красот якутских не удалось увидеть, а немало действительно красивых мест. В Мирном поразил открытый карьер и огромные грузовые машины, которые ползали в нем, как детские игрушки. Дух захватывало! В Мирном же попали в пургу, но слава богу, мело дня три, а бывает по месяцу. Когда прилетели туда (я, Тамара Парфентьевна Самсонова и Алла Матвеевна Мозговая), удивились, что нам не встречаются дамы в меховых шубах (а мы были, конечно, в шубах). А когда началась пурга (да ещё не очень сильная), наши шубы стали вроде ежей - так забивались в мех кристаллики льда. Пришлось надеть на них сверху длинные брезентовые плащи, которые нам дали. Так и ходили, пока не кончилась пурга. Снегу тогда намело очень много, бульдозеры прорывали на месте дорог траншеи для транспорта, а двухэтажные дома с подветренной стороны занесло до крыш. Такое количество снега я видела ещё в Алдане. Там каждое утро, если ночью шел снег, надо было прорывать траншеи от дома до дороги.
Летала по районам в основном самолетом, и меня поражало огромное количество озёр, большие полноводные реки и густая, на многие километры тайга. А среди всего этого затерянные поселки и редкие города. Хороши леса в Якутии. Когда все мои друзья были живы, мы каждый год в мае ездили в рощу, которую мы назвали Первомайской. Летом не часто, но по выходым ездили купаться на Лену, а осенью по бруснику и грибы.
Хороша Лена - одна из крупнейших рек России. Несколько раз были на Ленских столбах. Величественное зрелище - веет от них древностью. Если будет когда-нибудь у моих правнуков возможность и желание побывать на родине своих предков, этот уникальный памятник природы надо посетить в первую очередь.
Жизнь шла своим чередом. Один за другим подросли дети, закончили школу. В 1963 году Таня поступила в Новосибирский институт инженеров водного транспорта (НИИВТ), после окончания была направлена на работу вместе с мужем Анатолием Ермолаевичем Беленко в Томск, в Обское бассейновое управление путей (БУП), у них родилась дочь Женя. Через некоторое время Анатолий поступил в аспирантуру в НИИВТе, и они переехали в Новосибирск. Таня стала работать инженером в новосибирском БУПе. Анатолий учился в очной аспирантуре и был зам декана механического факультета института. Со временем стал пить, семейная жизнь их не сложилась. Ни тот, ни другой второй семьи не создали. Жизнь Анатолия закончилась трагически: он сгорел во сне в своей даче. Женя закончила заочно Кемеровский институт культуры, работает в библиотеке Управления новосибирской железной дороги. Замужем, муж Владимир. 31 января 2003 года Таня умерла от рака молочной железы.
Ирина поступила в 1966 году в ЯГУ на факультет иностранных языков, работала учителем английского языка в школе №3, затем переводчиком в Академии наук и коммерческих предприятиях. Замужем за Леонидом Ярыгиным. Дети Владислав и Катерина живут в Москве. Дети Владика, Серафим и Сергей - мои первые правнуки.
С мужем Виктором мы прожили около 50 лет. Он умер от инсульта 22 мая 1993 года.
О моем хобби.
Сколько себя помню, всегда у меня был интерес к шитью, к вышивке. Еще в молодости я шила себе платья и даже Соне пальтишко. Раньше, к сожалению, всегда не хватало ни материала, ни ниток, ни рисунков. И всё-таки я умудрялась как-то украшать сшитые мною для себя и Сони вещи. На старых фотографиях видны мои довольно примитивные в то время вышивки на блузках. Все это было по бедности…
Когда стала работать в Якутске, занялась вышивкой всерьез. К нам приехала из Москвы и устроилась в 8-ю школу учителем рисования Галли Григорьевна Хомякова с дочкой Майей. Кроме рисования, она вела также кружки рукоделия для учеников и учителей. Ходили в этот кружок и мои подружки Аля Дмитриева и Тася Ястребова. Галли Григорьевна особо выделяла, как способных, меня и Лиду Верховодову. Мы научились у неё многому, в том числе и машинной вышивке (к сожалению, из-за больных ног я не могу теперь вышивать на машинке). Через год Галли Григорьевна уехала обратно в Москву, но мы с Лидой поддерживали с ней связь и дружили до самой её смерти. А с дочкой и внуком связь потеряли.
Галли Григорьевна была большая мастерица: и шила, и вязала, и вышивала. С тех пор (правда, с перерывом в несколько лет, когда не было времени в связи с переходом на работу с университет) я, образно выражаясь, не выпускаю из рук иголку. Теперь нет недостатка в рисунках, нитках, новых идеях. Я стала вышивать новые сюжеты: цветы, птиц, пейзажи; использую разную технику, сочетаю разные приемы вышивок. У меня уже есть последователи. Участвую в выставках, занимаю призовые места. Сейчас интерес к рукоделию растет, но в основном среди женщин среднего возраста, молодёжь к этому пока равнодушна, у неё другие интересы. Сейчас пробую вышивку бисером. Сейчас можно купить наборы, в которых есть и канва, и рисунки, и бисер. Глаза пока, слава богу, позволяют вышивать без очков.
(Когда закончишь печатать, скажешь или напишешь, о чем можно было бы ещё добавить, а сейчас я уже устала, и притупился интерес к тексту... Какая концовка?)
Этими словами заканчивается рукопись воспоминаний.
Фамильное дерево Орловых-Соколовых.
О Тамаре Ивановне вспоминают: